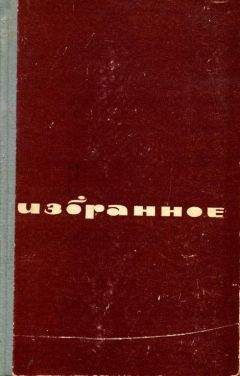И, неловко взяв ее за руки, проворчал:
— Загсом любви не свяжешь.
Она ответила Нилу:
— Я обещаю тебе тепло на всю жизнь.
— Не хочу обижать тебя, Том, но я все сказал.
Щуря черные глаза, она спросила:
— Может быть, хочешь убедиться, что я умею любить сильно и долго?
Нил растерялся и покраснел.
— Нет, — отозвался он поспешно. — Не в этом дело...
И, смутившись, совсем замолчал.
Внезапно пожал плечами и улыбнулся. Потом свел брови к переносице и заключил тихо:
— Счастье — трудное дело, Том. Ты зря ругаешься.
Он окончил геологический факультет на год раньше ее — и получил назначение начальником партии в Заполярье.
В день отъезда она пришла проводить его на вокзал.
Было холодно. Ленинградский поезд стоял почему-то с потушенными огнями, и она почти с ненавистью смотрела на темные металлические вагоны.
— Ты когда-нибудь встречал женщин-пьяниц? — спросила она его, держа за руку.
Он думал о чем-то своем и ответил механически, не вникая в тон вопроса:
— Нет, не встречал.
— Я запью, когда ты уедешь.
— Не болтай лишнее, Том, — заметил он спокойно.
— Я ненавижу сейчас эти вагоны, и проводницу, и машиниста. Они увозят тебя за тридевять земель — и улыбаются, курят, едят, будто ничего не происходит на свете. Какое-то всеобщее и глупое равнодушие.
— Тебе не холодно? — спросил он, увидев, что Тамара распахнула пальто. — Застегнись.
Нил произнес эти слова обычным ровным голосом, и Тамара вдруг почувствовала, что ей не хватает воздуха, а вечерний сумрак приобрел странный желтовато-ржавый оттенок. «Он нисколько не любит, — подумала она, — ему просто жаль меня. Так можно пожалеть любого, даже первого встречного человека».
Потом Нил стал рассказывать, как ему приятно будет работать в глухом краю, где на каждом шагу — и руда, и уголь, а может быть, — даже и газ. Да, да, чем леший не шутит, — он, Нил, найдет газ, и тогда можно будет согреть и заселить все Заполярье, далекую холодную окраину страны. Ах, как это хорошо — жить вот так, засучив рукава, жить для всех, чтоб тебя не скоро забыли люди.
— Правда ведь, Том?
Она не расслышала вопроса, но послушно кивнула головой:
— Да, да...
Товарищи, пришедшие проститься с Нилом, болтали в стороне и делали вид, что все идет как следует.
Она пожала руку Нилу и, проходя мимо мужчин, сказала:
— Идите. Он, кажется, сильно замерз со мной.
И пошла медленной неестественной поступью по деревянным, обитым железом ступенькам перекидного моста.
По дороге домой купила бутылку водки и, придя в маленькую комнатку, которую снимала у старой, уже оставившей сцену оперной артистки, заперлась на ключ.
Разделась, села к столу и долго смотрела на отпотевающее стекло бутылки. Налила водки в стакан, отпила глоток.
— Экая гадость! — заметила она вслух.
Вылила водку в ведро, снова села у стола и, прищурив глаза, стала рассматривать пустую стену.
В дверь постучали. Вошла хозяйка — худая старая женщина, много раз выходившая замуж и ни разу не знавшая счастья. Г
В молодости она была, вероятно, красива той обычной красотой возраста, которая дается почти всем. Как все молодые люди без таланта, она полагала, что похвалы ее игре и голосу — это похвалы ее игре и голосу, а не комплимент ее румянцу. Потом пришел зрелый возраст, и ей перестали дарить букеты, а затем и вовсе замечать. И, плача по ночам, она заново придумывала себе извечные, как мир, доводы: все в жизни непостоянно, и судьба играет людьми, как мячиком.
Войдя в комнату Тамары, старуха понюхала воздух и заметила, покачивая тощими и смешными в ее годы косичками:
— Сердце — только орган кровообращения, девочка. У нас, к сожалению, он еще выполняет функции мозга. От этого все несчастья женщин.
Она похлопала девушку по плечу, сообщила со старческой откровенностью:
— У меня было три мужа, Тамара. Когда второй и третий объяснялись в любви, мне казалось, что все слова те же самые, что уже были. Будто исполняли одно и то же ариозо. Никто ни на йоту не отступил от текста.
— У вас были неудачные мужья, Мариша, — возразила Тамара, — и они просто не любили. Настоящая любовь никогда ни на что не похожа.
Мариша грустно улыбнулась и покачала головой:
— Не стоит сердиться на тебя за невинное себялюбие юности. Ты забываешь, что старость тоже когда-то сияла белыми зубами и румянцем.
Помолчав, она добавила:
— Я не хочу разочаровывать тебя. Пусть каждое юное сердце верит, что ему предстоит неслыханная любовь.
Мариша вздохнула и погладила девушку по волосам:
— Я говорю, кажется, немного выспренне, но все-таки — правду.
— Он не любит меня, — сообщила Тамара, и Мариша с удивлением увидела, что в ее глазах нет и намека на слезы. — Но даже и не любит по-своему, не знаю как. И я не могу заставить себя забыть его. Правда, глупо?
Не отвечая на вопрос, Мариша спросила:
— А у тебя есть надежды, что он когда-нибудь полюбит, этот флегматик?
Девушка покачала головой:
— Не знаю. Мне кажется, он любит другую или не может любить совсем.
Последний учебный год достался ей тяжело, хотя она получила диплом и свидетельство, в котором не было ни одной тройки.
Окончив университет, потребовала назначение в Заполярье. Ей сначала отказали, но к ректору и декану ходили ее подруги, и ей все-таки удалось получить направление в Мурманск. В бумажке было сказано, что она едет для подыскания работы на месте.
Работы по специальности не нашлось, и Тамару решили направить в Москву.
Девушка твердила, что должна остаться в Заполярье, ссорилась, убеждала. Наконец в управлении согласились подождать: может, что-нибудь и найдется, откроется случайная вакансия.
Выяснив у секретарши, что Нил сейчас работает со своей партией в устье Иоканги или у мыса Святой нос и через два месяца один пойдет на Вайда-губу на северо-западной оконечности Рыбачьего, она усмехнулась и ушла из управления.
В тот же день появилась в кабинете директора посолочного завода и попросила его написать приказ о ее зачислении в цех.
Директор удивленно пожимал плечами, осторожно говорил, что ей будет трудно на незнакомой и нелегкой работе.
— Ничего, — перебила она, сузив черные блестящие глаза, — у меня высшее образование — как-нибудь научусь солить рыбу.
Девушки и женщины на посолочном заводе были веселый и простодушный народ — они умели петь песни, пить вино в праздники и одеваться с таким безыскусным великолепием, что иностранные моряки, особенно негры, в изумлении открывали рот.